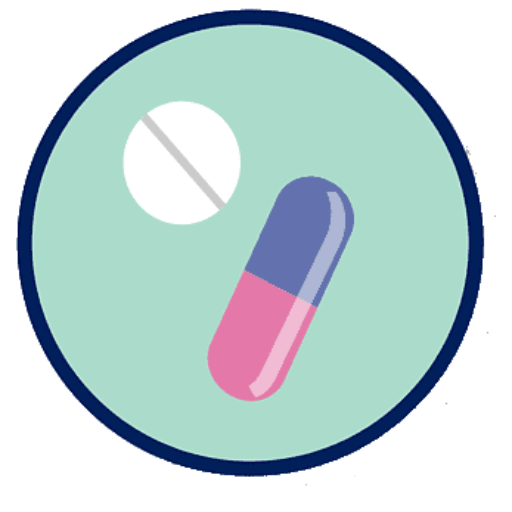Однако в греческой поэзии послегомеровского периода еще сложнее разобраться, чем в поэзии самого Гомера. (Прозаики, за исключением философов, лишь очень редко обращаются к цвету и в настоящем контексте вполне могут быть оставлены без внимания). Более поздняя греческая поэзия является более осознанно художественной; и в ней особенно проявляется своеобразная любовь к реминисценции и подражанию, главным образом тому, что писал Гомер. Эллинский поэт Аполлоний Родосский, например, говорит о крови как kuaneos, не глубоко-синей, а «темной»[47]; по такому же образцу римские поэты могут употреблять слово caeruleus, например, по отношению к грозовой туче[48]. Опять же здесь наблюдается естественная тенденция к идеализации употребления слов для передачи цвета. Например, у Эврипида героические фигуры автоматически являются xanthoi, хотя то же самое, как правило, верно, по крайней мере в отношении греческих героев, у Гомера[49]. В связи с этими сложностями после-гомеровская поэзия может дать нам мало полезного для того, чтобы проследить развитие терминологии цвета. Появляются лишь два факта: во-первых, поэты после-гомеровского времени намного больше используют цвет в своих описаниях; во-вторых, цветовой тезаурус Гомера претерпевает модификацию значений, во многом сходную с той, что мы находим в философских рассждениях о цвете, с меньшим акцентом на яркость и темноту и, соответственно, большим обращением к «собственно цвету». 
В то же время, сравнение двух типов после-гомеровских свидетельств — философских и литературных — подсказывает, что мы должны принять возможность независимого развития двух различных видов терминологии для передачи цвета — поэтического и прозаического. Растущее расхождение поэтического и прозаического употребления иллюстрируется словами для выражения зеленого и желтого цвета: в поэзии стандартным словом для обозначения зеленого (если мы вообще можем говорить о стандартных словах) является chloros, хотя оно употреблялось и Демокритом; Платон и Аристотель употребляют prasinos, «травянисто-зеленый», Теофраст — poodes, «зеленый как трава». Что же касается желтого, то поэты склонны употреблять слово chruseos, «золотистый», в то время как Платон и Аристотель используют ochros. Prasinos никогда не употребляется в поэзии, a ochor — никогда в точном значении «желтый».
Наиболее примечательной чертой выражений для передачи цвета на протяжении всей греческой античности является неконкретность. Точная передача цвета, как правило, достигается лишь посредством прямого сравнения с привычными предметами; и это также определяет основной способ расширения диапазона имеющихся терминов для передачи цвета путем образования новых составных слов. Картина, представленная философами, своей тщательностью, по большей части, как мы видели, обязана самим философам. Мы можем легко абстрагироваться от того, насколько ближе греки стояли к истокам языка. Но опять же, сама греческая литература далека от примитивной: тонкие эффекты использования Гомером яркости и темноты соответствуют богатству сравнений более поздней поэзии, которая, что парадоксально, вынуждена при видимой бедности языка полагаться на аналогию. Даже вне связи с литературой так называемый «примитивизм» греческой терминологии для передачи цвета может рассматриваться как отражение большей осознанности изменчивости цветов в естественном окружении; в действительности абстрактный словарь является искусственным, и сведение мира цвета к нескольким простым категориям слишком упрощает его и лишает утонченности.
Что касается латыни, у нас или совсем нет свидетельств в отношении доклассического периода или их очень мало. К I столетию до н. э., относительно которого мы уже располагаем некоторыми свидетельствами, латинский язык достиг стадии развития, сравнимой с уровнем развития греческого языка четвертого столетия. Для римлян было обычным делом восхищаться большим богатством экспрессии, присущим грекам: Лукреций, эпикурейский поэт-философ, сокрушается по поводу бедности своего родного языка: «patrii sermonis egestas» (Родной язык скуден (лат). — Прим. ред) [50]; в то время как Цицерон, со своей стороны, пытается защитить латинский язык от нападок. «Я часто заявлял, — говорит он, — несмотря на возражения не только греков, но и тех, кто хочет, чтобы их считали скорее греками, чем римлянами, что наш словарный запас не только не уступает греческому по богатству, но даже превосходит его»[51]. В обоих случаях речь идет лишь о способности латыни выражать технические детали греческой философии; но позднее Авл Геллий вторил сетованиям Лукреция именно в отношении терминологии для передачи цвета[52]. В этом он, вероятнее всего, ошибался: как утверждает Андре, его истинное недовольство имеет общий характер, заключающийся в том, что диапазон разнообразия цвета всегда будет большим, чем количество терминов для его выражения, имеющихся в словаре[53]. Доказательства, собранные Андре, говорят о том, что латинский словарный запас терминов для выражения цвета был, по меньшей мере, столь же богатым, как и греческий.
Латынь имеет приблизительно такое же количество абстрактных терминов для передачи цвета, как и греческий язык IV столетия: такие термины имеются для определения белого, черного, красного, желтого, зеленого и, возможно, синего. Caeruleus, синий, вероятно, был позаимствовал прозой из поэзии[54], точно так же, как Платон и Аристотель могли позаимствовать kuaneos у Гомера. В поэзии слово caeruleus является постоянным эпитетом для неба и моря, факт, который делает редкость синего моря и неба в греческой поэзии еще более удивительным. Само слово происходит от caelum, «небо». Точно так же, как слово kuanous, индиго, или «глубокий синий», возможно, развилось из значений «темный», «темно-синий» до «синий», так и слово caeruleus могло, по аналогии, употребляться, например, Вергилием как синоним «черного».
Кроме этих абстрактных терминов, как и в греческом, имеется большой ряд слов типа «цвета …»: niueus — «цвета снега»; sanguineus — «цвета крови». Эти слова могут употребляться поэтами как синонимы основных терминов или, наряду с этим, могут быть использованы для придания большей точности ссылке на что-то. Здесь наблюдается сходная неконкретность многих терминов и такое же разобщение поэтического и прозаического употребления; расхождение, которое, опять же, поощряется склонностью поэтов к подражанию. Почти все жанры римской поэзии близко связаны с соответствующими им греческими; и употребление выражения для передачи цвета в греческой поэзии оказало на них особенно заметное влияние.
Развитие греческой и латинской терминологии цвета хорошо иллюстрируется перечнями цветов радуги, представленными в различные периоды. Гомер описал ее просто как porphureos, возможно как пурпурно-фиолетовую или же фиолетовую[56]. Ксенофан, поэт-философ шестого века, — как фиолетовую, желтовато-зеленую и малиновую[57]; у Аристотеля цвета были: фиолетовый, травянисто-зеленый, «часто» золотисто-желтый и малиновый; для философа-стоика первого столетия Посидония, согласно Шульцу (хотя это весьма сомнительно), это были фиолетовый, синий (kuanous), травянисто-зеленый и красный цвета[58]; Сенека представляет их как фиолетовый, синий, зеленый, желто-оранжевый и «цвет огня», то есть красный[59], и, наконец, Аммиан Марцеллин, римский историк IV столетия нашей эры, перечисляет фиолетовый, синий, зеленый, желтый, «золотисто-желтый или рыжевато-коричневый»[60] и малиновый[61]. Из ньютоновского ряда семи цветов спектра в списке Аммиана не хватает лишь индиго, что, как отмечает Гиппер, скорее всего отражает предпочтение Ньютоном числа 762. Феномен радуги был одинаков во все периоды; и греки и римляне всех периодов обладали одной и той же способностью различать цвета. Пробелы в более ранних перечнях обусловлены, главным образом, возможностями языка на тот или иной период. Это положение стоит повторить: различение цветов и их обозначение — это два совершенно различных процесса. Любой наблюдатель с нормальным зрением будет в состоянии, по крайней мере, различить предметы, имеющие резко контрастирующие цвета, какие бы цвета это ни были; но если он должен назвать эти цвета, то для этого в языке должны иметься соответствующие термины. В то же время, кажется разумным предположить, что количество имеющихся терминов налагает ограничения на количество цветов, которые он будет считать «действительно различными». Аристотель называет лишь три или четыре цвета радуги потому, что эти цвета, так сказать, выделены для него языком. Позднее, с развитием языка, все большее количество цветов отделяется от соседствующих с ними и обретает свою идентичность. (Двух поэтов, Гомера и Ксенофана, наверное, не следует включать в эту специфическую дискуссию: ни тот, ни другой не обязательно должны были давать полный перечень цветов радуги в поэтическом контексте, независимо от того, способны они это сделать или нет).
Популярность: 1% [?]